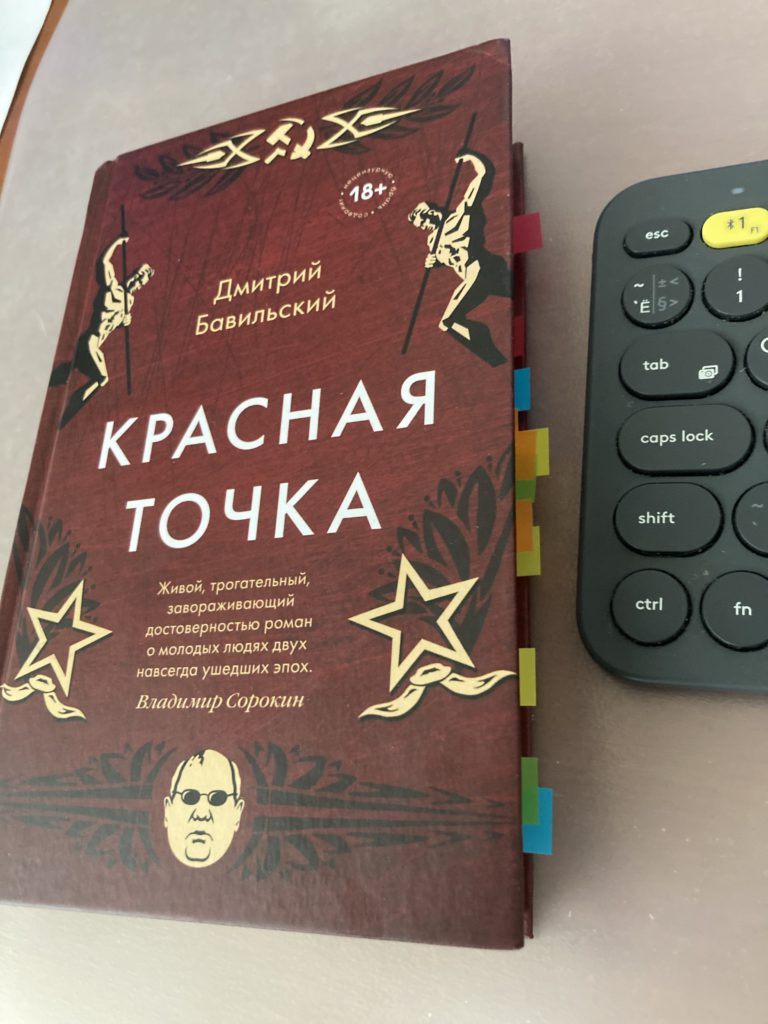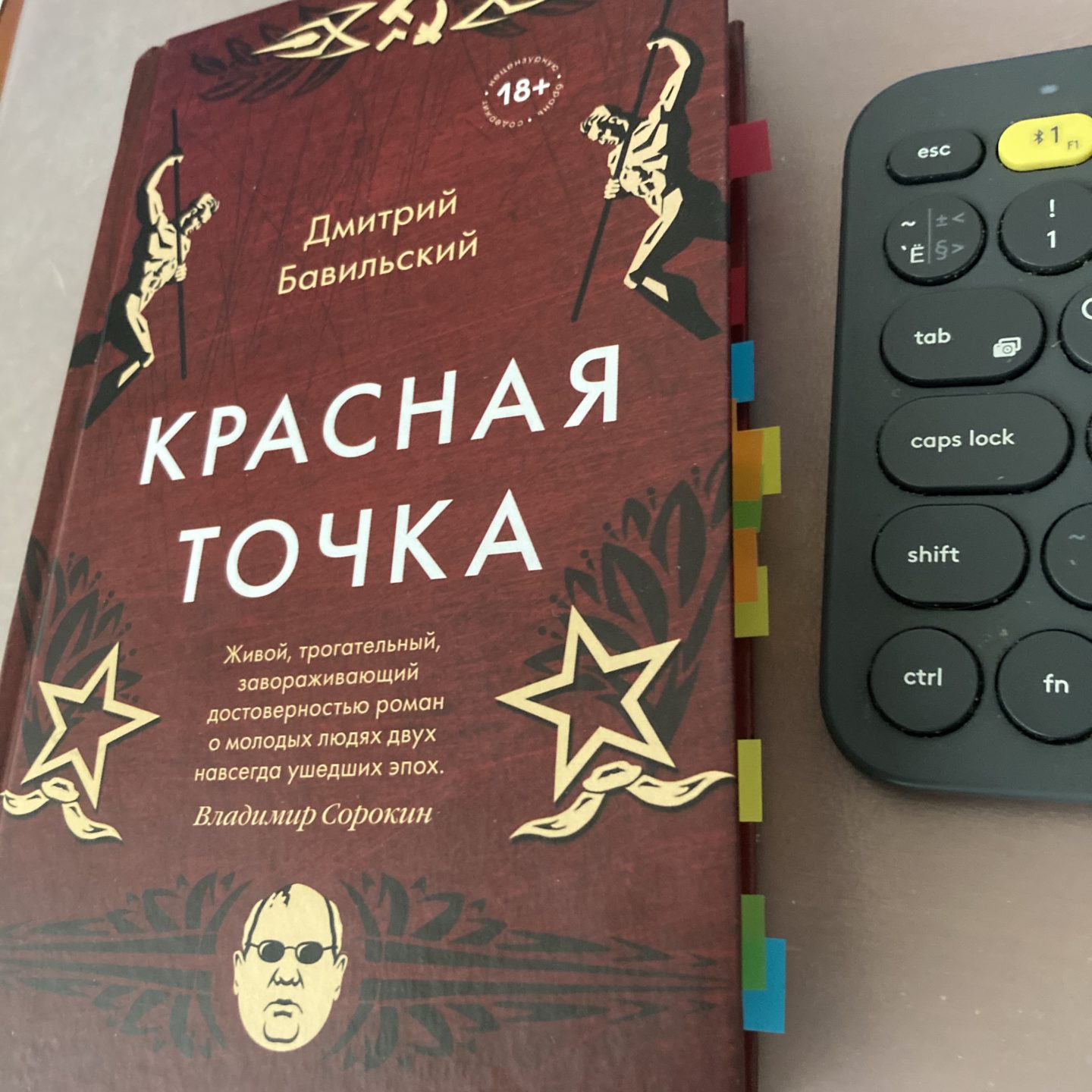Мимо этой книги я пройти не мог. Потому что в «авторской аннотации» Бавильский Дмитрий пишет:
И для того чтобы понять, что с нами происходит сегодня, следует вновь оказаться в советском «тогда»…
Мало того, что я с ним совершенно «ага» и сам постоянно думаю в эту сторону. Мы с Дмитрием плюс-минус ровесники. Кроме того, наш с ним личный «совок» протекал вдали от столиц. Да, и вообще, знаю его по ФБ (лично не знаком, к сожалению) и мелькающим в ленте отзывам-рецензия-ссылкам, как интересного размышлятеля. В общем, его взгляд на означенную тему показался мне интересным, и весьма.
Прочёл. И хочу сказать, что давно не испытывал таких близких эмоций. Не бурных, не отчётливых, а именно близких. Не абстрактно-читательских. Не о чём-то там, незнамо где, при царе Горохе или на Канарских островах прекрасного будущего. О себе прочёл, о своих давно позабытых и порастерянных друзьях, о родителях своих, обо всём, что было, и чего уже не будет никогда. Хотя в книге, разумеется, совсем о других и о другом.
Сейчас попытаюсь эти эмоции откинуть в сторонку и посмотреть трезвым рацио-взглядом: что это было?
Я утонул в тексте мгновенно. Когда закончилось авторское предисловие, откровенно троллящее читателя вплоть до заключительной метки-хронотопа, я крякнул от удовольствия и нырнул в роман. Мир оказался целиком и полностью моим. Куча реперных точек мгновенно выстроилась в систему координат, из которой легко не вываливаться. Переплетённые журналы, повальное коллекционирование и разнузданный обмен, канат в школьном спортзале, ночные бдения за «Ригондой» (у нас была Riga)…
Всё в этом мире заимствовано из моего, личного, продублировано здесь. Да не продублировано. Это мир — Дмитрия, мой, наш. Этот мир — мой, его же я пытался описывать в своих рассказах, ровно с теми же знаками, с теми же брежневскими похоронами и андроповской сбережённой минутой. Да, Анжела Дэвис и Леонард Пелтиер — на периферии моего личного мира, Саманта Смит сильно ближе к его центру, но полно — разве это важно?
Читаем в романе:
Папа как-то сказал: чем меланхоличнее человек, тем более горячий чай он пьёт (и наоборот). Вася запомнил, так как это походило на правду, а правда других людей, совпадая с твоим собственным опытом, устанавливает самый крепкий из всех возможных контакт с реальностью и теми, кто рядом.
Вот и рецепт настоящести мира «Красной точки».
Если бы книга просто рассказала мне то, что я и без неё знал, если бы только напомнила, всколыхнула, потревожила — я уже остался бы навеки счастлив. Но нет. Книга мастерски сфокусировала взгляд на кой-какие вещи до сей поры невостребованно лежавшие на полке «очевидностей». Чего стоит одно только микро-эссе о знаменитых пакетах Пугачёва/Боярский. Маленькая цитата оттуда:
Семиотик сказал бы, что эти пакеты не отсылают к чему бы то ни было, но репрезентируют сами себя.
Или такой вот афоризм:
…норма советской жизни легко сочетала исторический оптимизм с личной беспросветностью.
Известные же всем (заставшим) факты! Но сформулировано — блестяще.И таких отрывков-врезок довольно много, и далеко не все они посвящены «свинцовым мерзостям» советского быта. Один такой отрывок вдруг даёт классную версию того, почему дети с неохотой ложатся спать. Такие отрывки ещё сильнее сближают книгу с прустовской эпопеей. Эта связь очевидна, отмечена многими рецензентами, да и автор её не скрывает, упоминая Пруста прямо в тексте.
Ну хорошо, а нашёл ли я в книге ответ по теме, обозначенной а «авторской аннотации»? И да, и нет. Точнее, нашёл, но частичный. С одной стороны, автор опять точно сформулировал, подсказал мне очень важный нюанс:
Так уж сложились у людей его поколения личные обстоятельства, что моменты мужания шли синхронно становлению новой страны, внезапно оказавшейся в непонятном и совершенно непрочитываемом месте.
Мне кажется, это очень важная мысль, которая многое объясняет. И таких мыслей в романе — достаточно.
С другой стороны, назначить Васю окончательным судьёй в этом вопросе лично у меня не получается.
Дело в том, что на мой взгляд, всё было несколько иначе. Просто я не Вася Бочков, я, скорее — Инна Бендер из романа. Ольга Балла точно подметила в своей рецензии, что Вася — «человек без свойств». Он родился и жил в мире, осчастливленный свойством инертности. Мир скатывался с него, как ртуть со стекла. Удивляя и обескураживая подчас, но не пропитывая. И не наполняя (ибо: нечем?).
Меня устраивает любой расклад, я в любой ситуации способен найти плюсы. Более того, вам скажу: у меня есть автоэпитафия. Знаете, Софья Семёновна, я хотел бы, чтобы на моём могильном камне начертали мой девиз: «Не очень-то и хотелось».
Я другой и немного по-другому воспринимаю происходившее сорок-тридцать лет назад. Вася родился и живёт в духоте «совка», он не знает иных состояний и он заранее не видит в переменах ни плохого, ни хорошего. Было, как было, а будет — как было. Лишь нюансы, но что они решают?
А мне всё то время вспоминается как цепочка уверований-разочарований. То есть, всегда был свет, к которому я очень искренне и живо тянулся. И каждый раз достижение «источника света» заканчивалось ощущением лжи и безнадёги. Но это не убивало во мне веру, что настоящее таки есть, что я просто опять ошибся, меня обманули, но вот я поумнел и опять тянусь к очередному миражу… цепочка росла. Конец восьмидесятых — начало девяностых были самой яркой из этого ряда вспышек, к которым я тянулся.
То есть, вот два типа из того времени, довольно противоположных: Вася и я. А ещё (в «Красной точке» они тоже есть) — условные «комсомольские лидеры», на лету переобувавшиеся с криками: «Куй железо, пока Горбачёв». А кто ещё? Были ещё сотни и тысячи типов и типков, которые своим броуновский движением приволокли себя и всех нас оттуда — сюда.
Возможно ли описать весь этот хаос в одном романе/эпопее? «Шоб я так знал, как я не знаю» (с). Знаю только, что Дмитрий сделал как минимум блестящую попытку. Возможно, окончательную.
Смущало ли меня что-то в книге? Два момента.
Первый: это диалоги, нарочито выделанные, искусственные. С одной стороны, оно и понятно: люди без свойств не владеют живым языком. При этом отказать автору во владении языком никак не получится (« …в душе, однажды карамелизированной страхом» — как сказано!). То есть, понятно, что это умышленный приём. Но мне, каюсь, не удалось уловить его ценности.
Второй момент — вообще мой пунктик. Дело в том, что мне довелось поучиться во множестве школ, от Украины, до Заполярья. И везде, класса с третьего, мы практически никогда не обращались друг к другу, не обсуждали кого-то по именам и фамилиям. Клички («погоняла») навешивались мгновенно и не отлипали годами. В «Красной точке» прозвища встречаются, но настолько редко, что можно было бы их прям в пол-строчки тут разместить. Даже не так. Единственное полноценное погоняло — «Золотая лета». Принадлежит человеку, активного участия в романе не принимающему. Вот и всё. Парочка-троечка остальных прозвищ — отфамильные и инициальные. Всё остальное общение и обсуждение — строго «официальное». Наверное, это тоже авторский ход, из той же серии, что и предыдущий, и точно так же немножко меня выбивал из колеи.
Ну, и последнее. Форма, которая определяет здесь значимую долю содержания. Это очень здорово сделано. Сам по себе текст таков, что в нём легко можно утонуть и начать сопереживать героям, стать ими и прожить жизнь обычного читателя хорошего романа. «Нет», — говорит автор: «Так не будет. Вы должны смотреть на это со стороны, ни на минуту не забывая, где вы есть сейчас!»
Во-первых, весь текст разбит на мелкие главки. Каждая озаглавлена, причём очень часто — совсем не очевидно. Уже это притормаживает процесс, переключает внимание, оставляет читателя в осознанном состоянии.
Во-вторых, текст переполнен анахронизмами, в которых сам автор зачастую (но далеко не всегда) простодушно признаётся.
В-третьих, текст постоянно и прямо напоминает, из какого времени он рассказывается.
То есть, текст не даёт собой заворожиться, не хочет гладко проскочить и быстро забыться, как это часто бывает. Он очень активен, этот текст, он раздражает в самом лучшем смысле этого слова.
Ну, и самое последнее. Это роман о трансцедентальности. Нам не дано воспринимать мир непосредственно. Только через трансцендентальное стекло. Смотришь на мир сквозь него и понимаешь, что изображение стеклом искажено. Переводишь взгляд на стекло, чтобы разобраться, как оно вмешивается — и тут же теряешь из виду сам мир. Тогда клеишь на стекло красную точку и начинаешь переводить взгляд. С точки на мир. А с мира — на точку.